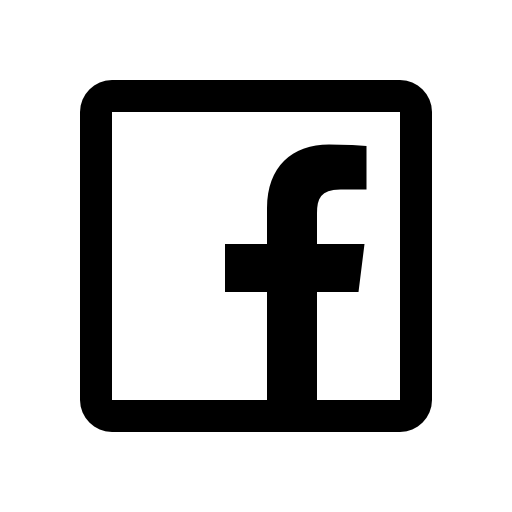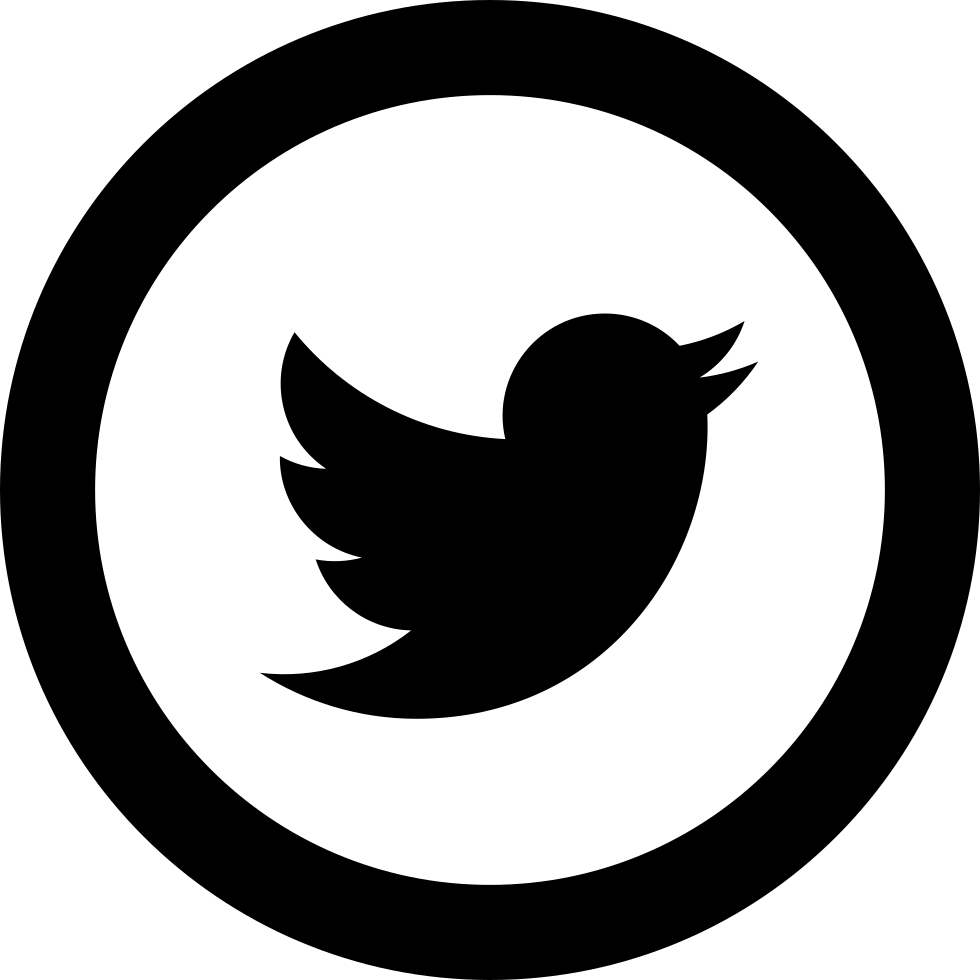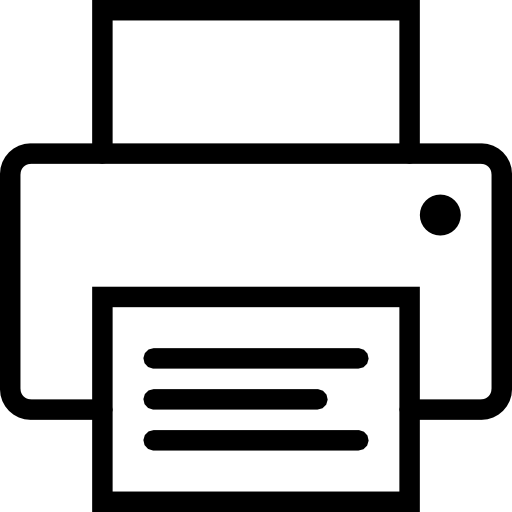| Грачья Галустян Автор ArmenianReport |
Революция 2018 года, принесшая Пашиняну власть, обещала освобождение от коррупции и авторитаризма. Однако с каждым годом в стране укрепляется обратное.
Выступление премьер-министра Николa Пашиняна в Национальном собрании стало, пожалуй, самым откровенным за всё время его пребывания у власти. Формально это были ответы на вопросы депутатов. По сути — манифест мировоззрения, в котором оппозиция объявляется чужеродным элементом, а сам премьер — единственным носителем национальной воли.
Пашинян сказал, что «оппозиция не знает Армению» и «живет в другом фильме». Эти слова были не просто эмоциональной реакцией, а демонстрацией принципа: в стране существует лишь одна легитимная правда — та, которую транслирует власть. Всё остальное объявляется ложью, манипуляцией или влиянием извне. С этого момента любой, кто осмеливается критиковать правительство, автоматически становится «врагом государства» или «агентом внешних сил».

Такое противопоставление «мы — они» давно стало постоянной частью политического лексикона премьер-министра. Но сейчас оно приобрело окончательную форму. Пашинян перестал объяснять свои действия логикой демократии — теперь это логика исключительности: только он способен понимать, что нужно стране, а все несогласные просто мешают.
Как видим, революция 2018 года, принесшая Пашиняну власть, обещала освобождение от коррупции и авторитаризма. Однако с каждым годом в стране укрепляется обратное: зависимость институтов от одного человека. Когда премьер говорит, что действует «по воле народа», это уже не декларация демократического принципа, а подмена понятий. Народ становится не совокупностью граждан с правом на собственное мнение, а безмолвной массой, которой правительство прикрывает собственные решения.
В парламенте Пашинян прямо заявил, что оппозиция «существует только тогда, когда страна рушится». Тем самым он приписал себе роль гаранта не просто стабильности, а самого существования государства. Звучит почти по-людовиковски — «государство - это я». Разница лишь в том, что в XXI веке подобные формулировки произносятся в завуалированной форме.
Не менее показателен его конфликт с Армянской апостольской церковью.

В последние месяцы власть открыто атакует духовенство, обвиняя его в «сотрудничестве с оппозицией» и «поддержке разрушительных настроений». Для Пашиняна Церковь — неудобный институт, напоминающий обществу, что над политической властью существует моральная.
Власть, стремящаяся к монополии, не терпит альтернативных источников авторитета, будь то епископ или журналист. Фактически премьер формирует новую идеологию, где национальная идентичность определяется не верой и не исторической памятью, а лояльностью лично ему. Армянин нового типа в понимании Пашиняна — это человек, готовый забыть об Арцахе, принять поражение как благо и считать молчание проявлением зрелости.
Премьер больше не спорит с критиками — он их стигматизирует. Аресты мэров, давление на региональные власти, публичные обвинения в «сотрудничестве с Баку и Анкарой» — всё это стало инструментами внутренней политики. Любой, кто задаёт неудобные вопросы, оказывается под следствием или под моральным осуждением. Такая система не нуждается в аргументах.

Она опирается на страх, который постепенно заменяет доверие. В обществе формируется атмосфера, где проще промолчать, чем попасть под удар обвинений в «антиармянской деятельности».
Отдельного разговора заслуживает внешнеполитический контекст. Снятие Азербайджаном ограничений на транзит в Армению и последующие заявления Пашиняна о «новой эпохе мира» вызвали неоднозначную реакцию. Для одних — это шаг к региональной стабилизации. Для других — финальная точка в цепи уступок, начавшихся после осени 2020 года.
Пашинян, очевидно, стремится продемонстрировать Западу и России, что контролирует внутреннюю ситуацию. Ради этого он готов подавлять любые протестные проявления, объясняя их «вмешательством внешних сил». Но за внешним фасадом «миротворца» проступает фигура политика, для которого удержание власти становится важнее самой страны.
Критика правительства уже не воспринимается как часть нормального политического процесса. Медиа, задающие неудобные вопросы, подвергаются травле, а независимые журналисты объявляются «пособниками врагов». Так постепенно стираются границы между государством и личной властью. Пашиняну удалось создать систему, где любое инакомыслие воспринимается как угроза существованию страны. Но именно это и есть главный парадокс: уничтожая плюрализм, власть разрушает то, что делает государство устойчивым. Без оппозиции, свободной прессы и церковного голоса любая власть начинает верить в собственную непогрешимость.
Сегодня всё чаще звучит вопрос: кто остановит этот процесс? Ответ тревожный — пока что никто. В Армении остаётся слишком мало структур, способных противостоять централизованному контролю.

Парламентская оппозиция деморализована, улица подавлена, а гражданское общество занято выживанием. Поэтому проблема уже не в самом Пашиняне. Она в обществе, которое смирилось. В стране, где революция обещала свободу, люди постепенно привыкают к мысли, что лучше стабильная тишина, чем шум свободного спора. Это и есть самая опасная стадия любой политической эволюции — когда подданные добровольно соглашаются быть подданными.
 Читайте также
Читайте такжеС точностью до наоборот: мечты Захаровой и суровая реальность Гнев ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА
23 Февраля 2026 - 14:56
Рейтинг вместо популизма Воодушевление ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА
22 Февраля 2026 - 16:42
Новая реальность и новые возможности для Армении Комментарий ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА
21 Февраля 2026 - 18:24
Это шоу дорого обойдется Армении Предупреждение ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА
19 Февраля 2026 - 14:49
 23 Февраля 2026 - 19:48
23 Февраля 2026 - 19:48
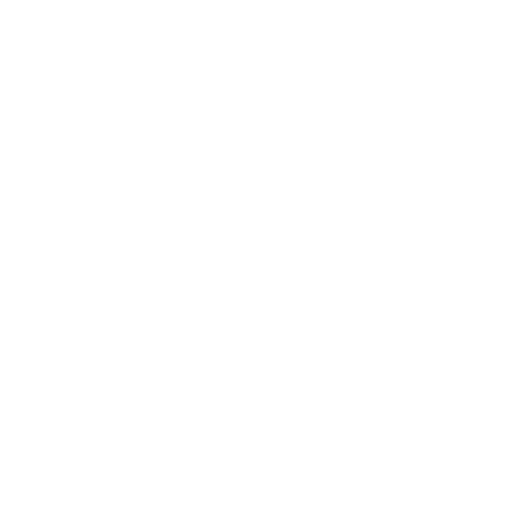 23 Октября 2025 - 12:45
23 Октября 2025 - 12:45
 2044
2044